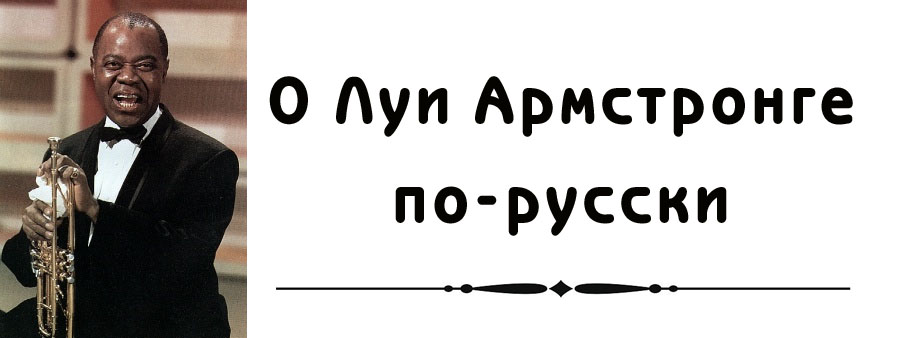...Как-то летом стояла ужасная засуха. Месяцами не было дождя, и нигде нельзя было найти ни капли воды. Тогда во всех дворах можно было видеть большие баки для сбора дождевой воды. Когда они были полны, воды хватало и для еды и на стирку. Но в это лето баки были пусты. Обитатели Джеймс Элли неистовствовали, как черти. Нас спасали тюремные конюшни. Там все-гда была вода, и конюхи разрешали нам набирать ее в бутылки из-под пива.
Прямо перед конюшнями помещалась сама тюрьма, занимавшая целый квартал. Здесь заключенные проводили от тридцати дней до шести месяцев. Согласно существующим правилам, они могли свободно разгуливать по всем площадям города и работать извозчиками на конках. В те времена в Нью-Орлеане были прекрасные белые лошади, тянувшие патрульные телеги и «черную Марию», так называлась тюремная повозка. Я смотрел на этих лошадей, и мне очень хотелось как-нибудь прокатиться на одной из них. В конце концов мне это удалось. Боже, как я был счастлив!
Однажды, когда я отправился за водой вместе с остальными обитателями Джеймс Элли, пожилая дама, подруга Мэйэнн, подошла к моей бабушке и сказала, что Мэйэнн очень слаба и что они с отцом снова разошлись. Моя мать понятия не имела, где сейчас отец и вернется ли он к ней. Она осталась одна с ребенком — моей сестрой Беатриче (или Мамой Люси), о ней некому было позаботиться. Дама попросила бабушку отпустить меня к Мэйэнн, чтобы я хоть как-нибудь помог ей. Будучи женщиной большого сердца, бабушка согласилась отпустить меня к постели матери. Со слезами на глазах она начала собирать меня в дорогу.
— Приходится выпускать тебя из-под своего надзора, — с горечью повторяла она, — да уж ничего не поделаешь.
— Мне тоже очень жалко покидать тебя, бабушка, — отвечал я, глотая застоявшийся в горле комок. — Я так сильно тебя люблю, бабушка. Ты была добра со мной, научила меня всему, что я умею: следить за собой, умываться и чистить зубы, складывать одежду, уважать старших.
Она дала мне шлепок, вытерла глаза нам обоим, притянула меня к себе и поцеловала на прощание. Она не знала, когда я вернусь. Я тоже не знал. Но моя мать была больна, и она считала, что я должен находиться около нее.
Приятельница Мэйэнн взяла меня за руку, и мы пошли. На улице я внезапно разразился слезами. Пока мы шли по Джеймс Элли, я все время оглядывался и видел бабушку Жозефин, махавшую нам рукой. Мы повернули за угол, чтобы сесть на трамвай; остановка была прямо перед тюрьмой. Я стоял и хныкал. Тогда моя спутница повернулась ко мне и указала рукой на огромное здание.
— Послушай, Луи, — сказала она, — если ты сейчас же не перестанешь реветь, я отправлю тебя в эту тюрьму. Тут держат плохих мужчин и женщин. Ты ведь не хочешь быть вместе с ними?
— О нет, мэм, — пробормотал я, и, окинув взглядом здание, а оно было весьма внушительных размеров, сказал себе: «Пожалуй, действительно хватит реветь. Кто знает, вдруг эта дама и вправду способна выполнить свое обещание». Подошел трамвай, и мы вошли в вагон. Здесь я впервые столкнулся с законом Джима Кроу. Мне только что исполнилось пять лет, и я еще ни разу не пользовался общественным транспортом. Поэтому я и направился прямо в переднюю часть вагона, не придавая значения надписи на задней, гласившей: «Только для цветных пассажиров». Думая, что приятельница Мэйэнн следует за мной, я сел на одно из передних сидений. Однако она ко мне не присоединилась, и, когда я обернулся посмотреть, что произошло, ее не оказалось рядом. Оглядываясь по сторонам, я увидел, что она неистово машет мне рукой с заднего сидения.
— Иди сюда, малыш, — кричала она, — сядь, где тебе положено!
Думая, что она смеется надо мной, я как ни в чем не бывало, остался сидеть на месте. Дама подошла ко мне, сдернула меня со скамейки, гневно потащила в задний конец вагона и толкнула на одно из пустых сидений. Я увидел буквы на спинках: «Только для цветных пассажиров».
— Что значит эта надпись? — спросил я.
— Не задавай столько вопросов, заткника лучше свой рот, дурачок!
Было что-то забавное в этих надписях на спинках сидений нью-орлеанских трамваев. Потом-то мы, цветные, не обращали на них внимания, когда садились в вагон, чтобы ехать на пикник или на воскресные гулянья, проходившие обычно на Канал-стрит. В эти часы в трамвае белых совсем не бывало, и мы занимали целый вагон, усаживаясь, где нам вздумается. Было так хорошо чувствовать себя более значительным, чем на самом деле. Я не могу объяснить, чем было вызвано это чувство, может быть, просто тем, что возможность кататься на местах для белых была для нас делом необычным и всегда неожиданным...
Когда вагон остановился на углу улиц Тюлейн и Либерти, дама сказала:
— Все в порядке, мы приехали.
Мы сошли с трамвая, и я увидел Либерти-стрит. Передо мной, насколько хватало глаз, в одну и другую стороны двигалась бесконечная толпа. Это напомнило мне Джеймс Элли, и я подумал: «Если бы не бабушка, я, наверно, не скоро вернулся бы туда». Однако я держал эти мысли про себя, пока мы шли два квартала к дому, где жила Мэйэнн. В задней части двора, в единственной комнатушке, она стряпала, стирала, гладила, нянчила мою маленькую сестренку... Мое первое впечатление было столь ярким, что я помню его, как будто все это было вчера. Я не понимал, что со мной. Я знал только, что я с мамой и что я люблю ее так же горячо, как бабушку.