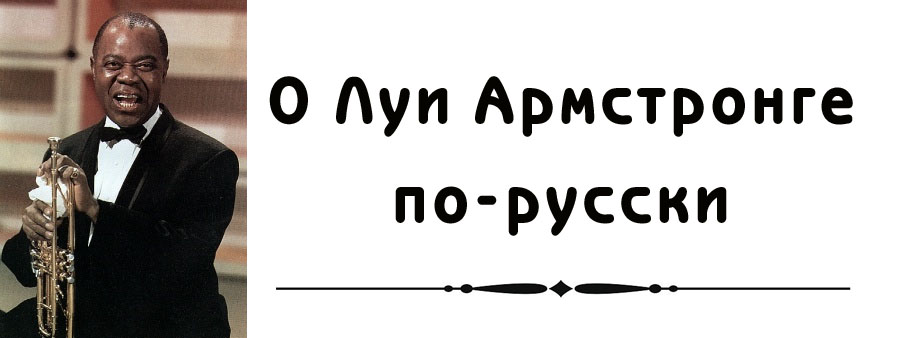Но вернемся к зиме 1922/23 годов, первой моей зиме в Чикаго, когда джаз был горяч, как огонь, но еще грубоват по форме. Пробыв здесь совсем немного, я почувствовал, сколь многому научился на Юге. Здесь было совсем мало оркестров, игравших в нашей манере, и большинство хороших музыкантов, хотя и не все, прибыли на Север из Мемфиса и других мест, расположенных ниже по Миссисипи, вплоть до самой дельты. Еще я заметил, что большинство любителей джаза — школьники и студенты колледжей — не знали старой музыки. Они любили слушать джаз и танцевать под него. Но бывали на наших концертах и настоящие музыканты. Один профессор музыки, преподававший в большом чикагском колледже, приходил в Линкольн-Гардене каждый вечер и записывал нас на ноты. Официанты не любили его, потому что он ничего не заказывал и никого с собой не приводил, просто сидел и слушал. Тогда я не понимал его, но очень хорошо понимаю сейчас. Джаз развивается и будет развиваться дальше, а для людей, которые его создают, он составляет главное в жизни. Возьмите, например, «джем сэшнз». Я уверен, вы слышали о них. Где вы найдете что-либо подобное среди «коммерческих», или, иначе говоря, «свит» музыкантов? Джазовые музыканты, усталые после целой ночи работы, собираются вместе в ранние утренние часы, чтобы поиграть для себя, из одной только любви к искусству. «Свингуй, Гэйт»,— запевает один из них, и эти слова становятся сендером1 для всех остальных. И все уходят в свою музыку, самозабвенно свингуют, часами играют только потому, что жить без этого не могут.
Сендер «Свингуй, Гэйт», между прочим, идет от меня. Еще в детстве меня прозвали Гэйт-маус. Позже я стал так называть других ребят, чтобы не слишком выделяться среди них. Уже играя в оркестре Кида Ори, когда музыканты расходились в полную силу, я, чтобы подхлестнуть ребят, запевал «Свингуй, Гэйт». Сейчас джазовые музыканты широко пользуются этой фразой, но большинство из них, я полагаю, не знают, откуда она взялась. Я слышал, как некоторые говорят, что она происходит от слова «алигатор» — так мы называли людей, которые любили сидеть и слушать джаз. О некоторых номерах, например, мы говорили: «Алигаторам это понравится». Я полагаю, таких слов, которыми пользуются только джазмены (посторонние их просто не понимают), более четырехсот. Это говорит само за себя, и я думаю, ничто другое не показывает столь ярко, насколько тесным был круг джазовых музыкантов и насколько отличен их мир от мира музыкантов «коммерческих». Я надеюсь, что эта книга поможет хоть немного объяснить этот мир,— это и есть настоящая причина, почему я взялся ее писать, хотя я только теперь понял, какой это тяжкий
труд для человека, который всю жизнь имел дело с трубой, а не с карандашом.
В апреле 1923 года, когда наш зимний ангажемент в Линкольн-Гардене закончился, Кинг Оливер взял нас в гастрольную поездку по Иллинойсу, Огайо и Индиане. Мы должны были выступать по одному вечеру в различных танцевальных залах. Это было приятное путешествие. В Ричмонде (Индиана) мы задержались, чтобы сделать граммофонные записи для компании «Дженет». Это был мой первый опыт записи на пластинку. С тех пор я наиграл много дисков, лучшие из них принадлежат компании «Декка», однако некоторые записи Кинга Оливера, сделанные «Дженет», сегодня представляют большую ценность для коллекционеров, изучающих джазовую музыку. Во время записей я впервые почувствовал, как усилился мой звук в результате практики последних лет. Операторы из «Дженет» нашли, что я должен стоять на двадцать футов дальше от звукозаписывающего аппарата, чем остальные музыканты,— на более близком расстоянии им просто не удавалось записать мой верхний регистр без искажений. Лил тоже участвовала в этой поездке; наши отношения становились все более близкими, и в конце концов, приблизительно через год, 5 февраля 1924 года мы зарегистрировали наш брак в мэрии города Чикаго.
Лил поговорила обо мне с Олли Гауэрсом, и в результате он предложил мне место первого трубача в оркестре, выступавшем в «Дримленде». Вскоре я получил известие из Нью-Йорка от Флетчера Хендерсона. Он писал, что у него есть для меня свободное место и он надеется на мое согласие. На этот раз, спустя пять лет после его первого приглашения, я согласился. Мы с Лил уложили вещи и отправились в Нью-Йорк. Должен сказать, он произвел на нас сильнейшее впечатление. Случилось так, что Лил смогла пробыть со мной только две недели: заболела ее мать, и ей пришлось вернуться в Чикаго. А я остался в Нью-Йорке на целый год. У Флетчера был прекрасный оркестр из двенадцати человек, который играл в большом танцевальном зале «Роузленд», на углу Бродвея и 51-й улицы. Это был первый цветной танцевальный ансамбль, игравший по специальным аранжировкам. Вот это был оркестр! Мы сидели на одной эстраде, а на другой помещался оркестр Сэма Ланина. Это были дни, когда Рэд Николз, Миф Моул, Свэн и Виктор д’Опполито и другие музыканты, ставшие теперь знаменитостями, только начинали свою блистательную карьеру. Ребята эти всегда мне чертовски нравились.
На Саут Сайд, в Чикаго, я впервые почувствовал свою силу и, думаю, действительно хорошо играл, особенно в те дни, когда работал В «Савойе» у нас был прекрасный оркестр. На ударных стучал Зутти, мой старый друг еще с нью-орлеанских дней, Крауфорд Уортингтон был первым альт-саксофонистом, Омер Хобсон — вторым трубачом, Фред Робинсон играл на тромбоне, Джек Андерсон — на фортепиано, Джимми Стронг — на саксофоне-теноре, Бернард Карри был третьим альтистом, Ретер Бриггстрол играл на тубе, Мэнси Сир — на банджо. Заключал этот список Кэрол Дикерсон. Я был первой трубой и оставался здесь до начала 1929 года. Все наши ребята были хорошими друзьями и выучились свинговать вместе по-настоящему горячо. Но в начале 1929 года в «Савое» начались трудности . Этс был конец эры Чикаго. У нашего оркестра не было никаких ангажементов, большинство музыкантов едва сводили концы с концами. Посоветовавшись, мы решили попытать счастья в Нью-Йорке.
Идея всем понравилась. Кэрол все еще лидировал в оркестре, но в Нью-Йорке его не знали, поэтому он сам и предложил, чтобы оркестр назывался моим именем, так как я уже бывал в этом городе, кое-кого знал там и Гарлем немного слыхал обо мне. Мы надеялись, что мое имя поможет нам получить ангажемент. При этом мы не подозревали, что нас уже хорошо знают, и поняли это, только приехав в Нью-Йорк.
Собираясь в дорогу, мы решили, что каждый обойдется двадцатью долларами. У четверых из нас были собственные малолитражки. Мы заправили их бензином и, упаковав вещи, двинулись в путь, понятия не имея, что будем делать в большом городе. Так или иначе, мы были намерены пробиваться вместе. Как и все, я взял с собой только двадцать долларов. Остальные деньги оставил Лил, с тем чтобы она заботилась о доме, пока я буду, что называется, «ловить журавля в небе». Со мной был и Кларенс, мой приемный сын, и мы покинули Чикаго, где я получил свой настоящий старт. По дороге мы останавливались во всех городах, которые проезжали. Было приятно, что нас повсюду приветствуют. Оказывается, благодаря радио мы уже приобрели некоторую известность. Нам не разрешали тратить свои деньги. Если мы заходили в кабаре, то слушали местный оркестр, после чего они угощали нас. Все «кэтс» были рады видеть нас. Так мы и проводили время, не имея никакой работы, ни о чем не заботясь и никуда не торопясь, лениво тащились от одного города к другому, не теряя юмора. Мы останавливались в Детройте, Дейтоне, Кливленде и других городах, а когда достигли Буффало, решили,
что неплохо бы взглянуть на Ниагарский водопад, раз уж проезжаем мимо. Мы надеялись обойтись без неприятностей по дороге, но не тут-то было. Автомобиль Кэрола так и не доехал до Нью-Йорка — он разбился вдребезги, и ребята перелезли в другие машины. Мой автомобиль хотя и дотянул до места, но, когда мы свернули на Таймз-сквер, от него шел пар. Первое, что я сделал в Нью-Йорке,— позвонил Томми Рокуэллу, предложившему мне в Чикаго записаться на пластинку. Сейчас он один из партнеров фирмы «Рокуэлл — О’Кифи» в Нью-Йорке и имеет большой бизнес, знакомя публику с вещами Бинга Кросби и многих других звезд. Войдя к нему в контору, я сказал:
— Я привез свой оркестр.
— Что это значит — свой оркестр?
— Я могу собрать его в любое время.
— Не отсылай его обратно.
В это время, когда годы большого бума подходили к концу, здесь в Гарлеме было три знаменитых ночных клуба: «Коттон», «Смэл’с» и «Конни’с Инн». Это были самые «горячие» места в Нью-Йорке; все, кто на Манхэттене имел деньги и время, приходили сюда поздней ночью, хотя эти клубы помещались за пять миль от других театров. Они открывались после окончания спектаклей и работали до самого утра. Здесь шли тщательно продуманные и искусно сделанные шоу, их успех держался на талантах цветных артистов, в те годы стекавшихся со всей страны в Гарлем. Многие из них вкусили славу именно в этих клубах. Среди зрителей часто попадались знаменитые артисты, издатели, дельцы с Уолл-стрит и вообще великие люди всех сортов. Здесь веселились, наслаждаясь горячей музыкой джаза и лихой чечеткой. Все приходили в вечерних туалетах — это было обязательным условием. Сколько денег тратилось в те дни в гарлемских клубах! Каждая пара оставляла здесь от сорока до шестидесяти долларов в вечер, не считая платы за вино. Это была пора сухого закона, подавать спиртное не разрешалось, но официанты и метрдотели не упускали случая предложить его из-под полы за чудовищную цену — по десять долларов за пинту. Так что большинство посетителей предпочитали прихватывать с собой фляжку со спиртным и заказывать содовую воду или имбирный эль по доллару за порцию, которой едва хватало на один глоток. Цыпленок «а ля кинг» стоил три доллара, черный кофе — сорок центов и так далее, а на чай давали не меньше семи — десяти долларов! В таком мотовстве не было ничего хорошего, но в те времена посетители могли себе это позволить. Я полагаю, многие из них позже вздыхали по деньгам, растаявшим в ночных клубах Гарлема. Теперь не то: всех отрезвил холодный душ кризиса...